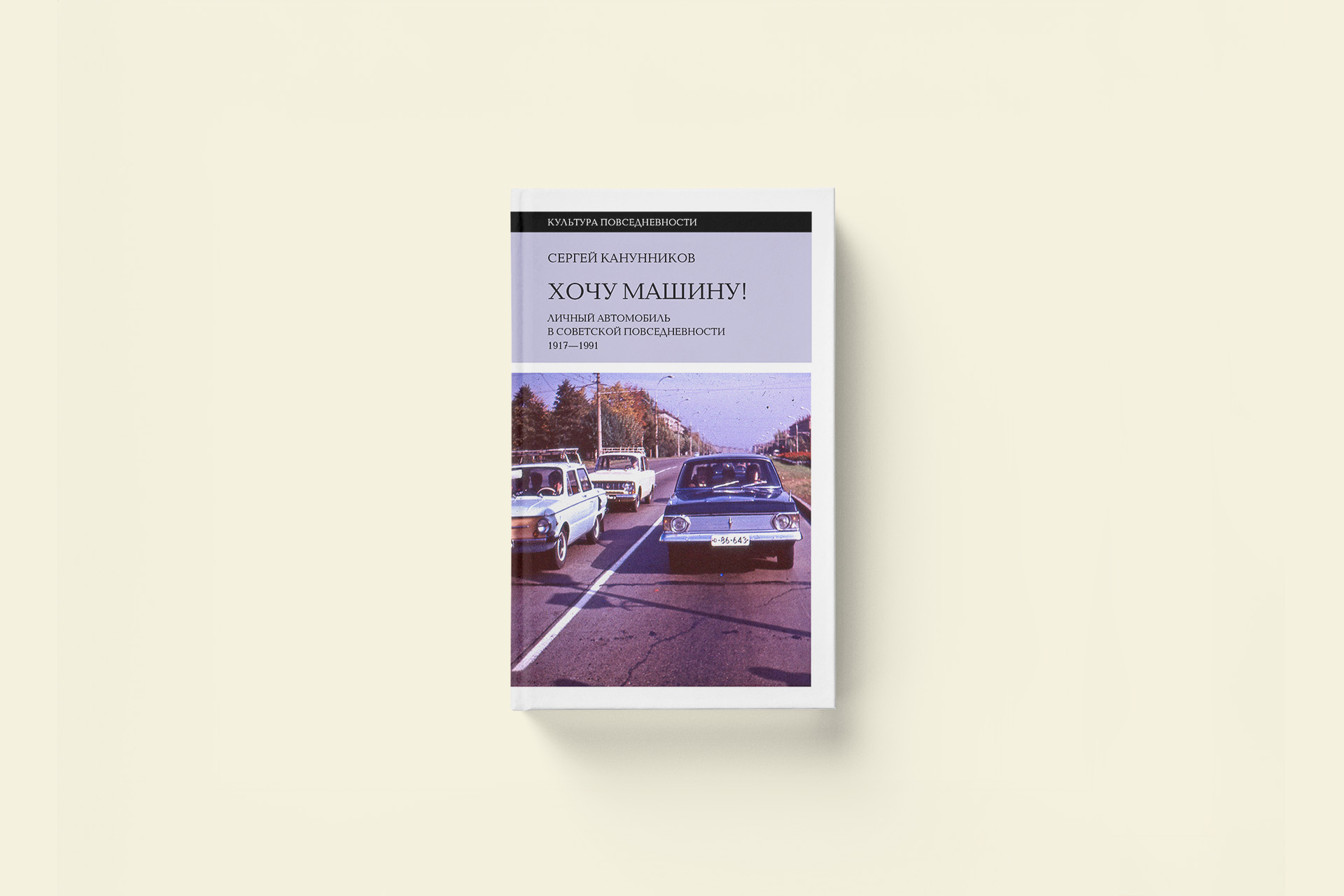В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Сергея Канунникова «Хочу машину!». «Сноб» публикует отрывок.

Места в гараже и под солнцем
В стандартный, повторяемый в фольклоре, художественной литературе и кино рубежа 1970–1980-х годов набор советского благосостояния — квартира, дача, машина — в те годы окончательно вошел и гараж. Гаражи были нужны всем, о них мечтали не только те, кто не пользовался автомобилем зимой и вынужден был хранить машину в бездействии прямо во дворе или на открытой стоянке, но и те, кто ездил круглый год. Ведь автомобиль, запаркованный во дворе, подвергался целому набору опасностей — от осадков и дворовых мальчишек, которые могли шутки ради спустить шину или даже поцарапать кузов, до мелких и крупных жуликов. Мелкие воровали наружные детали, включая дефицитные плафоны фонарей, колпаки колес и сами колеса. Крупные же могли угнать автомобиль. Воровство внешних деталей с машин стало нормой даже днем. Поэтому, например, промышленность наладила выпуск быстросъемных наружных зеркал заднего вида разных конструкций, и практически любой автолюбитель, покидая автомобиль даже ненадолго, снимал и прятал зеркало в салон. Щетки стеклоочистителей многие надевали только в дождливую погоду, чтобы сберечь очередной дефицит от мелких жуликов и ненароком не забыть снять их, покидая автомобиль. Если дождь начинался внезапно, приходилось выбегать из машины на обочине, а то и на светофоре и в спешке крепить щетки на штатное место. В кинодетективе режиссера Рудольфа Фрунтова «Ларец Марии Медичи» (1980) есть сцена: офицер милиции, правда, в штатском, приезжает на встречу на престижных «жигулях» ВАЗ-2103 и, едва выйдя из машины, снимает и убирает в салон наружное зеркало.
Тем временем парк личных автомобилей рос куда стремительнее количества гаражей. Если в 1965 году, по данным журнала «За рулем», в Москве, где личных автомобилей было уже около 100 тысяч, лишь 40% машин стояли в гаражах, то в 1970-м их оказалось уже только 15%. В Ленинграде — 20%, в Риге и Таллине — по 25%. В 1972 году главный инженер ленинградского филиала «Гипроавтотранса» Ю. Гольденберг сообщал, что в Ленинграде из примерно 45 тысяч личных автомобилей лишь 15% паркуются в гаражах, из них только 2,8% в многоэтажных гаражах, которые специалист «Гипроавтотранса» считал более рациональными с точки зрения городского хозяйства. Но романтическое высказывание Гольденберга в 1972-м звучало уже наивно: «В условиях социалистической экономики нет и не будет места для анархического, необузданного роста автомобилей без учета разумных возможностей их расселения в городе».
Для решения проблемы хранения личных автомобилей специалисты предлагали самые разнообразные проекты. Например, некое подобие полуподземных гаражей, углубленных всего на 2,2 м. Над таким гаражом теоретически можно было организовать сквер или детскую площадку. А стоить такое машино-место, по расчетам теоретиков, должно было недорого: 1170 рублей для «волги» и всего 860 рублей для «москвича» или «жигулей».
Но все, конечно, хотели настоящий — капитальный гараж с отдельным боксом. Такой в середине 1970-х стоил пять-шесть тысяч рублей, примерно как не самые дорогие «Жигули» или однокомнатная кооперативная квартира в Москве. Гараж был куда менее доступен, чем автомобиль.
В борьбе за место в гаражах разгорались нешуточные страсти, что прекрасно показал Эльдар Рязанов в картине 1979 года «Гараж». Историю зарождения сюжета фильма режиссер рассказывал на встрече со зрителями и в своей книге: «Однажды, еще во время работы над “Служебным романом”, я заскочил на очередное собрание гаражного кооператива. Думал, что пробуду на нем 20–30 минут и сбегу — кончалось производство картины, дел было невпроворот. Но судьба распорядилась иначе. Я пробыл на этом собрании много часов и ушел потрясенным. Ситуация на собрании, которая вызвала бурные дебаты, перешедшие в склоку, была очень проста. Сократили земельный участок, отданный под застройку гаража. Следовательно, автомобильных боксов в кооперативе стало меньше. Поэтому надо было исключить нескольких пайщиков. Казалось бы, дело житейское. И в данном случае не произошло бы ничего особенного, если бы не позиция, занятая правлением кооператива. Правление, которое, очевидно, частенько нарушало устав, побоялось решать этот вопрос демократическим путем. Ведь тогда неминуемо всплыли бы некоторые махинации. Если пустить события на самотек, распоясавшиеся пайщики могли бы выкинуть из списка нужных людей, привилегированных членов. Поэтому правление подготовило ход собрания, наметило жертвы заранее. Разумеется, на жертвенный алтарь были принесены агнцы, то есть люди, не занимающие высокого положения, не имеющие влиятельных покровителей, одним словом, люди „рядовые“, беззащитные. Когда огласили фамилии исключенных, большая часть пайщиков, не попавшая в “проскрипционные” списки, облегченно вздохнула.
Напряжение, предшествующее этой болезненной операции, спало. На лицах засветились улыбки, послышались шуточки. Было понятно: этих людей не тронули. То, что они стали свидетелями и, более того, участниками произвола, несправедливости, нарушения демократии, их совсем не задело. Но еще страшнее было то, что они даже не осознавали этого. В такой благодушной, я бы даже сказал, веселой атмосфере исключенное меньшинство начало отчаянную и безнадежную борьбу за право остаться в кооперативе. Однако члены правления держались монолитно и, пользуясь тем, что сидели в президиуме, пытались заткнуть глотки жертвам. Им помогали пайщики, оставшиеся в кооперативе. Не буду пересказывать всех перипетий собрания. Многое из того, что произошло в жизни, и стало в будущем содержанием нашей комедии. Я приехал домой после собрания как оглушенный. Ведь среди присутствующих было много моих знакомых, которых я считал порядочными. Но там они проявили себя совсем с другой стороны. Я увидел сборище людей, лишенных совести, забывших о справедливости, людей равнодушных и трусливых. Как будто вдруг спали маски благопристойности, обнажив некрасивость и уродливость лиц. Я понял, что должен поставить об этом фильм. Чем больше я вспоминал и анализировал происшедшее, тем более крепло во мне это желание».
По типовому уставу гаражно-строительных кооперативов (ГСК), купить гараж заранее, до приобретения машины, было нельзя. Срок безмашинного владения гаражом ограничивал устав ГСК. То есть если гражданин, продав автомобиль, не приобретал новый в определенный срок, его могли исключить из кооператива. Что тоже обыграно в картине Рязанова: кража автомобиля у заместителя директора института и члена правления ГСК Аникеевой (актриса Ия Саввина) тут же послужила поводом для исключения ее из числа пайщиков.
Гаражи в городах очень часто располагались отнюдь не рядом с жильем автолюбителей. Иногда приходилось даже не идти, а ехать туда на городском транспорте. Но в любом случае получение гаража, особенно капитального, каменного, с отдельным индивидуальным боксом, было большой удачей и событием, менявшим жизнь автолюбителя и его семьи.
Гаражная жизнь в СССР — отдельная, своеобразная и специфическая составляющая советской повседневности. Гаражи превратились в некое подобие мужского клуба. Примерно как советские пивные 1960–1970-х годов. В книге
«Повседневность эпохи космоса и кукурузы» историк Наталия Лебина приводит далеко не безосновательные суждения американских советологов о том, что в 1970-х «русская пивная, как аналогичные заведения в Германии, была местом коллективного образования рабочих». Может, и не образования в классическом стиле, но пивные в те годы в СССР действительно стали мужскими клубами, где обсуждали не только бытовые проблемы, но и философские вопросы, а заодно открыто критиковали многие советские реалии. С гаражами — то же самое.
Гараж обладал важным для советского обывателя свойством — некой экстерриториальностью. Глава семьи мог взять туда с собой сына, жены же иногда лишь смутно представляли, где расположен дом для семейной машины. Мужчины в выходные отправлялись в гараж из густонаселенных городских квартир отдохнуть от семейных проблем и скучного быта и оказывались в своем приватном мире.