В новой рубрике «Стресс в большом городе» доктор психологических наук и профессор РАН Тимофей Нестик обсудил со «Снобом» причины «мировой депрессии», токсичную позитивность, причины веры в светлое завтра и коллективный образ будущего.

Мировая эпидемия депрессии — это справедливая оценка ситуации? Статистика стабильно показывает рост депрессивных и тревожных состояний. О чем это говорит?
По данным ВОЗ, с 1990 по 2019 число диагностированных депрессивных расстройств выросло на 59%. Разговор об «эпидемии депрессии» идет уже давно, с начала 1990-х годов, причем в эпицентре этого шторма находится молодежь. Правда, за последние 20 лет такая оценка ситуации не раз подвергалась критике из-за медикализации психологических состояний — смешения собственно медицинского диагноза с симптомами подавленного настроения и дистресса. До принятия DSM-III в 1980 году расстройствами признавались только эндогенные депрессии, связанные с генетикой, а не с жизненными событиями. То, что мы называем депрессией, представители неевропейских культур описывали бы скорее как жизненные невзгоды и проблемы нравственности. Но сегодня это действительно общемировая тенденция. Если посмотреть на данные корпусной лингвистики, то частота лексических маркеров депрессивных состояний растет в англоязычных, испаноязычных и немецкоязычных текстах примерно с середины 70-х годов, а всплеск пришелся на появление соцсетей. У этого есть несколько причин.
Во-первых, отставание заработных плат от роста производительности труда — это характерно для мировой экономики со второй половины 70-х годов. Во-вторых, урбанизация и рост числа одиноких домохозяйств, что уменьшает возможности получать социальную и эмоциональную поддержку. Это одна из причин того, что пандемия COVID-19 усилила переживание тревоги и депрессии в большинстве стран при нагнетании страха в СМИ и социальных медиа.
В-третьих, высокая связность через цифровые технологии: с одной стороны, они позволяют быстрее получать помощь и взаимодействовать, с другой — расширяют круг людей, с которыми мы себя сравниваем. Последнее особенно остро проявляется у подростков: они видят в соцсетях сверстников, которые демонстрируют образ социального успеха. Весь контент, который условные знаменитости размещают о себе, показывает, насколько они психологически благополучны. Это формирует феномен токсичной позитивности — когда нормы сетевой коммуникации не дают признать неудачи, подавленность, какое-то плохое состояние. Плюс это создает иллюзию неизменного «я» — что одни всегда будут успешными, а другие — наоборот; что природа одних — быть счастливыми, других — несчастными. И в подростковом возрасте это переживается особенно остро.
Насколько сравнение себя с другими важный фактор в подростковых депрессий?
Это не единственный, но действительно важный фактор, потому что именно в этом возрасте нужны примеры для подражания, и это, как правило, не родители. Другие значимые причины симптомов подростковой депрессии — изменение представлений о собственных возможностях, ломка привычных социальных траекторий успеха, карьерных, например. Когда общество переживает радикальные изменения, возникает феномен «отложенного будущего»: планы сначала замораживаются, потом, если неопределенность затягивается, будущее реконструируется.

Давайте поговорим о психологическом здоровье российского общества в целом — что с нами происходит сейчас? Например, есть цифра, что в прошлом году продажи антидепрессантов выросли на 22%. Как это характеризует ситуацию?
Рост потребления антидепрессантов говорит не столько о распространении клинических тяжелых депрессий — в мире в среднем это порядка 5–6% — сколько о стремлении людей избавиться от угнетенного настроения, тревоги и отчаяния.
Психологическое здоровье общества находится в постоянной динамике — как и человеческая личность, это саморегулирующаяся система. Кризисы не только травмируют нас, они мобилизуют психологические ресурсы для совладания и адаптации. Причем в разных социальных группах, в разных возрастных когортах это проявляется по-разному. Отсюда противоречивость общей картины происходящего. Например, данные масштабного эпидемиологического исследования сердечно-сосудистых заболеваний в регионах России говорят о том, что выраженность симптомов депрессии снизилась с 28% в 2013–2014 гг. до 15% в 2020–2022 гг. Правда, исследование проводилось среди взрослых 35–75 лет, молодежь охвачена не была.
По данным нашего мониторинга, уровень тревожно-депрессивной симптоматики в России сейчас составляет 27%. Исследования, проведенные по этой методике в Германии и США, дают меньшие цифры — 10–15%. Наиболее подвержены таким состояниям женщины, жители мегаполисов, люди с низким доходом и особенно, опять же, молодежь. В юном возрасте люди чувствительны к кризисам, потому что еще не сформированы механизмы психологической защиты, навыки совладания со стрессом, которые есть у взрослых. По нашим данным июня 2025 года, среди молодежи 18–24 лет симптоматику депрессии отмечали у себя 67% респондентов. Пики были весной и осенью 2022 года — до 80%.
В среднем по стране симптомы депрессии отмечают у себя 41% опрошенных, тревоги — 22%. Интересно, что у американцев, наоборот, тревога выше депрессии. Преобладание депрессивной симптоматики над тревожной может говорить о длительном переживании неконтролируемых жизненных обстоятельств, косвенно это может указывать на истощение психологических ресурсов.
Мы ожидаем, что серьезной проблемой после завершения СВО станет распространенность посттравматических стрессовых расстройств. Они, конечно, будут не только среди тех, кто вернулся с фронта, но и у мирного населения, особенно среди жителей прифронтовых регионов. ПТСР может проявиться не сразу, а через несколько месяцев или даже лет. Сейчас, по самоотчетам респондентов и по нашим совместным с социологами опросам, острые симптомы ПТСР в стране составляют около 5%. Это значительно меньше, чем можно было бы ожидать.
А какие показатели ожидали?
До СВО и пандемии сопоставимых замеров мы не делали. Но, например, по данным Института психологии РАН, среди мирного населения Чеченской республики через несколько лет после завершения военных действий уровень ПТСР составлял 23%, а уровень депрессии — порядка 30%.
Почему показатели депрессии в России выше, чем тревожных расстройств?
Важно уточнить: мы говорим не о заболеваниях, а о симптоматике. Причем симптомы тревоги и депрессии очень тесно связаны друг с другом, в половине случаев они сочетаются. По метааналитическим данным, депрессия преобладает над тревогой во всем мире, причем, по данным ВОЗ, сильнее всего эта разница была выражена в африканских странах. Возможные причины — дистресс, социальное неравенство и низкая вера людей в возможность влиять на происходящее. В России только 12–15% граждан верят, что могут влиять на процессы в стране, и этот показатель относительно стабилен на протяжении уже 15 лет. В других странах, за исключением Швеции, ситуация в этом смысле не намного лучше.
Социологи часто воспринимают тревогу как негативный, дестабилизирующий фактор. Но у этого состояния есть и позитивная функция: тревога подстегивает нас, мобилизует наши психологические ресурсы.
Какие-то происшествия начинают обсуждаться — с друзьями, в семьях, на работе — вызывая эффект «кругов на воде» и повышая тревожность общества. Но такие обсуждения не обязательно приводят к панике, они позволяют получить эмоциональную поддержку, переосмыслить ситуацию. А вот депрессия гораздо опаснее: она более устойчива, затрудняет обращение за помощью, снижает притязания и может переходить в агрессию. В целом апатия и симптомы депрессии характеризуют психологическое неблагополучие общества значительно больше, чем результаты опросов об уровне счастья.

В разговоре о динамике психологического состояния общества, кроме эмоций — гнева, грусти, радости или вины, важны еще социологические шкалы — например, удовлетворенность жизнью, насколько счастливыми считают себя люди.
И, как ни парадоксально, уровень счастья в России в последние 3–5 лет существенно не изменился. Более 80% участников различных исследований положительно отвечают на вопрос о том, считают ли они себя счастливыми. Это часть защитных механизмов, поддерживающих самооценку. Другой механизм — наша экономическая самоидентификация: количество свободных средств снижается, в некоторые моменты мы видим объективные признаки ухудшения макроэкономической ситуации, растут страхи по поводу материального благополучия своей семьи, но при этом респонденты по-прежнему относят себя к той же группе дохода. Это тоже помогает поддерживать самооценку и использовать стратегии совладания с трудными экономическими ситуациями.
В разговоре о психическом благополучии нужно учитывать, что сейчас ресурсы сопротивления стрессу сильно истощены, прежде всего тем, что кризисы, через которые мы проходим, накладываются друг на друга.
В данный момент перед нами стоят экономические вызовы, в горизонте нескольких лет могут снова обостриться военные конфликты. Но если смотреть на 10–20 лет вперед, то тут есть и другие факторы риска, например, изменение климата. Растет число исследований, подтверждающих, что рост концентрации в воздухе мелкой пыли, связанный с изменением климата, повышает вероятность нейродегенеративных и психических заболеваний. Кроме того, рост температур влияет на способность адекватно интерпретировать ситуацию. 30 лет назад проводили эксперимент, который показал, что при 27 °С полицейские чаще рассматривали действия подозреваемых как агрессивные и представляющие угрозу и на 25% чаще доставали оружие из кобуры, чем при 21 °С. Недавно проведенный метаанализ исследований в 140 странах показывает, что высокие уровни температуры и влажности ведут к росту числа убийств.
Какие еще не самые очевидные факторы будут влиять на психологическое состояние общества в ближайшем будущем?
Как мне кажется, самое важное — рост социального неравенства: оно будет увеличиваться не только по доходам, но и по уровню компетенций, доступности технологий, медицины, защищенности от экстремальных погодных явлений.
А когда эти факторы станут значимыми?
После военных конфликтов обычно увеличивается неравенство, растет конфликтность, в том числе межэтническая. Поэтому сейчас особенно важно в школах, колледжах, вузах развивать навыки разрешения конфликтов и фасилитации групповой работы — умения договариваться, искать компромиссы. Нашему обществу крайне важно нарастить эти компетенции, а также уважение к личности с отличной от общепринятой точкой зрения, использовать разнообразие мнений на благо общества.
В странах, переживающих экзистенциальную или символическую угрозу, возрастает потребность в консолидации, отсутствии разногласий перед лицом «врага». Эти механизмы формировались тысячелетиями и помогали малым и крупным сообществам выживать в борьбе друг с другом. Но у этого есть цена: с ростом жесткости культуры снижается ее инновационность. Когда мы сталкиваемся с внешней угрозой, возрастает потребность в простых ответах на сложные вопросы. В таких условиях нам легче обесчеловечивать других, а внутри своей группы мы ждем более строгого соблюдения наших правил и ценностей.
Многие из запущенных сейчас психологических механизмов не до конца осознаются. Думаю, нас ждут еще суровые испытания, и то, что сейчас кажется безобидным, может со временем восприниматься иначе.
Есть уже немало эмпирических исследований того, как военные действия влияют на психологию людей. Они показывают, что после военных конфликтов возрастает чувствительность к несправедливости, усиливаются жесткость и авторитарные установки. Я предполагаю, что могут возникать новые витки радикализации, а черно-белое мышление, характерное для непосредственных участников конфликтов, в котором граница между «своими» и «чужими» очень жесткая, — будет переноситься на другие сферы общества. Конкуренция за ресурсы обостряется, свободных средств становится меньше. Также можно ожидать «охоты на ведьм» — это социальное явление часто реализуется не во время войн, а сразу после них.
Но, как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, в развитии каждой культуры есть периоды быстрого рывка и стагнации. Переживание угрозы сначала притормаживает развитие, но затем, когда общество сталкивается с вызовами, на которые нет очевидных ответов, это провоцирует очень быстрое развитие. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее нашей культуры и общественных наук. Спустя какое-то время мы неизбежно начнем развиваться быстрее. Большую роль в этом будет играть возросшая гражданская самоидентификация. Она резко выросла в 2022 году и с тех пор статистически значимо не меняется.

Что вы подразумеваете под гражданской самоидентификацией?
Любовь к Родине, а также готовность гордиться достижениями соотечественников — спортсменов, ученых, инженеров. Это еще называют культурным патриотизмом. Сейчас этот показатель очень высокий, причем вне зависимости от отношения человека к специальной военной операции.
Но тут есть еще один важный показатель — как мы относимся к россиянам другой национальности, людям другого поколения, другого уровня доходов. К сожалению, роста межгрупповой сплоченности тут мы не видим. По некоторым показателям, межпоколенческая сплоченность чуть-чуть выросла, но по другим — межэтническая или экономическая — наоборот, ослабевает. Здесь напряженность, скорее всего, будет расти. И поэтому очень важно бороться с проявлениями ненависти, в том числе в медиа. Мы по понятным причинам чаще опираемся на рестриктивные меры — что-то запретить, ограничить, но это подтачивает способность к критическому мышлению. Попытки оградить нас от «лишней» информации у одних людей снижают бдительность, так как они считают, что государство или телекомпании их уже защитили. А у других такие меры вызывают еще большее недоверие, что ведет к росту конспирологических настроений и повышает самоуверенность: мол, мы-то точно распознаем ложь. Но, как показывают исследования, чем больше человек уверен, что может отличить правду от лжи, тем более он уязвим к манипуляциям.
Эти эффекты усиливаются в ходе геополитического противостояния. За последние несколько лет в России выросла значимость ценности традиций, конформности — соблюдения норм и правил своей группы, а также снизилась открытость новому опыту и готовность экспериментировать. Это хорошо объясняется эффектами переживания трудноконтролируемой внешней угрозы.
То есть мы становимся консервативнее, потому что чувствуем опасность?
Это сказывается не только на нашей конформности, но и на нашем мышлении, принятии решений, конструировании представлений о мире. За последние три года у нас снизилась социальная сложность — готовность признавать, что к одной цели могут вести разные пути, что разные, даже противоположные точки зрения могут быть по-своему справедливы, что человек изменчив, что он может вести себя по-разному в разных ситуациях. Эти представления ослабляются, а вера в судьбу и необходимость влиять на нее — растет. Такой сдвиг в представлениях о мире говорит о том, что общество мобилизует силы для преодоления препятствий.
У вас недавно вышла книга «Коллективный образ будущего», в которой вы, кроме прочего, разбираете психологические предпосылки социального оптимизма в условиях кризисов, которые наше общество переживает в последние 3–5 лет. Расскажите, какой уровень этого оптимизма и какие у него основания?
Речь о психологических механизмах, которые позволяют людям даже в самых неблагоприятных обстоятельствах сохранять оптимизм, причем не столько в отношении собственного будущего, сколько в отношении будущего своей социальной группы, страны, мира в целом. Одна из частей комплекса защитных психологических механизмов, так называемых перцептивных защит, — вера, что мир справедлив, и если не совершать грубых ошибок, все сложится благополучно. Она поддерживает не только психологическое благополучие, но и способность действовать в трудных обстоятельствах. Сюда же я бы отнес веру в то, что наши усилия рано или поздно будут вознаграждены.
Второй фактор — способность переосмысливать ситуацию. Наши исследования, связанные с различными трудноконтролируемыми угрозами — военными, террористическими, природными катаклизмами, показывают, что даже травмирующий опыт люди пытаются преобразовать в позитивный, найти в нем светлые стороны или связать его с достижением масштабных целей. Речь о восстановлении осмысленности мира, ощущения, что наша жизнь имеет ценность, и мы контролируем ситуацию.
Еще есть так называемые позитивные иллюзии — вера в то, что именно у нас получится, даже если у других — нет. Это вера в свои деловые качества, которые помогут справиться с кризисом.
Во всех этих механизмах есть эволюционный смысл: даже если вера в успех не соответствует действительности, она мобилизует психологические ресурсы и помогает справляться со сложностями. К слову, это больше свойственно мужчинам, особенно в ситуациях неопределенности. До сих пор идут дискуссии, насколько это конструктивно, ведь иногда в долгосрочной перспективе такие иллюзии могут быть деструктивными. Но ясно одно: чем сильнее мы идентифицируем себя со своей группой — страной, профессией — тем больше верим в светлое будущее этой группы. Это подтверждают исследования в разных культурах — в Китае, Турции, США, России.
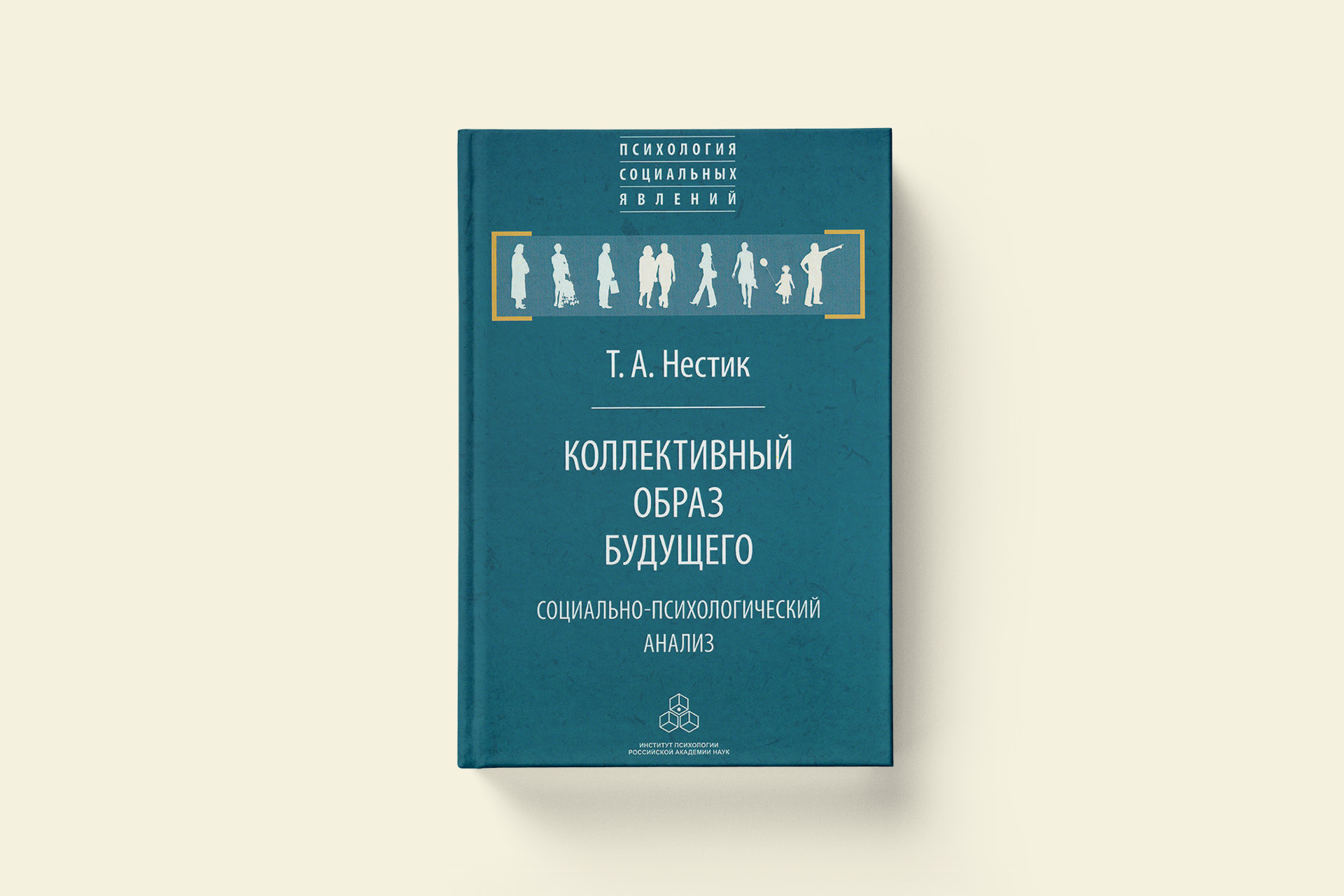
То есть для социального оптимизма достаточно веры, что я принадлежу к большой группе и вместе мы справимся?
Если говорить о социальном оптимизме, нужно учитывать два его компонента, которые могут быть выражены в разной степени. Первое — вера, что все как-нибудь сложится, ее еще можно назвать наивным оптимизмом. Второе — вера в то, что совместными усилиями члены группы смогут справиться с трудностями. Этот оптимизм тоже может казаться наивным, но он тесно связан с уровнем доверия в обществе, в том числе к социальным и политическим институтам. И он сильно зависит от того, переживаем ли мы внешнюю угрозу. Такой оптимизм может быть компенсаторным, то есть возвращает нам чувство контроля. Также он может поддерживаться амбициозной, созидательной целью, к формулированию которой мы все причастны. Это хорошо видно на примере компаний: если управленцы или какая-то ядерная часть коллектива активно вовлечены в совместное целеполагание, то оптимизм в команде будет значительно выше.
Мы все время меняем представления о прошлом и будущем, чтобы найти основания для психологического благополучия и равновесия, вернуть осмысленность жизни. Психологическим ресурсом могут стать даже поражения в прошлом — мы верим, что на этот раз справимся, верим, что добьемся реванша, или преувеличиваем достижения. Нам важно верить, что мы справимся сами или вместе с кем-то. Идентификация себя с чем-то большим — это тоже стратегия поддержки психологического благополучия.
Фундаментальная потребность человека, оказавшегося в условиях трудноконтролируемой угрозы, понимать — встретим ли мы ее в одиночестве или вместе с другими значимыми людьми, вместе со своей страной, или, может, со всем человечеством.
Что происходит с людьми и их оценкой будущего, если они не отождествляют себя с большой группой?
Отождествление себя с какой-то социальной группой — естественная часть социализации, это неизбежно. Даже когда человек отстаивает свою уникальность и отрицает принадлежность к какой-либо группе, это все равно способ социальной категоризации, форма отстаивания своей идентичности, которая невозможна без включения себя в какие-то социальные общности.
Если смотреть с точки зрения конформности, человек может не поддерживать происходящее и даже ставить себя в оппозицию к действиям своей группы, но это не обязательно значит, что он исключает себя из нее. Такая идентификация просто становится амбивалентной: что-то мы продолжаем любить, и это составляет нашу суть, наши ценности и основания для осмысления прошлого и будущего, а что-то отторгаем. Если такая избирательность сопровождается рефлексией и признанием позитивного прошлого, то перед личностью или командой открываются новые перспективы.
В случае амбивалентной идентичности оценка будущего все равно может оставаться позитивной. Парадокс в том, что мы надеемся: в долгосрочной перспективе группа, наше сообщество, будет успешным, кризис удастся преодолеть. Но эта двойственность может сопровождаться острыми симптомами депрессии и тревоги — что показывает наше исследование. В такой ситуации отдаленное будущее становится компенсацией: мы верим, что в конечном счете добро победит.
То есть при двойственном отношении к своей группе светлое будущее для меня становится более отдаленной целью? И это повышает депрессию и тревожные состояния здесь и сейчас?
Нужно понимать, что причины таких состояний могут быть и не связаны с будущим, а относиться к личной судьбе, отношениям с близкими, семейной ситуации. Но если говорить об обществе, то основная причина депрессии — невозможность повлиять на настоящее.
В таких случаях кому-то на помощь приходит ностальгия — обращение к светлому прошлому, кому-то — вера в отдаленное светлое будущее. Мы не можем радикально повлиять на геополитические, макроэкономические или климатические изменения. Поэтому совладание через решение проблемы в таких ситуациях плохо работает, оно скорее обостряет негативные переживания. Исключение — волонтерство, помощь другим, которая действительно возвращает чувство контроля и поддерживает психологическое благополучие. Конструктивным оказывается юмор, способность вышучивать ситуацию — он помогает нам проявить самосострадание. Также позитивное переосмысление происходящего, о котором я уже говорил, и самое главное — признание того, что случилось.
К сожалению, есть угрозы, прежде всего военные, которые провоцируют у мирных граждан стратегию ухода: мы стараемся защитить себя, избегая мыслей о происходящем, полностью погружаясь в работу или отвлекаясь, вытесняя это. Эти стратегии могут быть конструктивными сейчас, но потом становятся дезадаптивными: когда конфликт заканчивается, они мешают, потому что не дают обсуждать травмирующий опыт и, соответственно, получать эмоциональную поддержку. Это своего рода ловушка, повышающая вероятность посттравматических стрессовых расстройств, которые могут проявиться позже — через месяцы или даже годы.
Могут ли показатели роста симптоматики психических расстройств быть связаны с дестигматизацией терапии, которая в нашем обществе активно шла последние лет 10–15? Люди стали свободнее говорить о своих трудностях и проще обращаться за помощью. Насколько дестигматизация влияет на психологический портрет общества?
Да, культура обращения к профессиональным психологам постепенно формируется, в том числе среди молодежи, что важно для будущего нашего общества. Сегодня у психологического сообщества важная миссия — помогать людям не только находить в себе силы, но и строить доверительные, психологически безопасные отношения.
Сейчас, к сожалению, растет готовность к самоцензуре — склонность людей не высказываться открыто о своих чувствах и переживаниях. Это характерно не только для России: например, в американском обществе самоцензура тоже выражена. Но там причина этого в сильной поляризации общества, опасении нарваться на ожесточенную критику, а в крайних случаях — даже «отмену».

В целом, получается, что в настоящем у нас, может, и не все слава богу, но вера в светлое завтра вытягивает?
Мы можем не верить в светлое будущее, но сам по себе интерес к будущему — одно из оснований жизнестойкости личности. В 2022 году мы наблюдали резкое снижение готовности россиян планировать свою жизнь. Наши лонгитюдные исследования показывают, что ослабла даже вера в то, что долгосрочное планирование вообще имеет смысл и может быть полезным. Однако интерес к будущему, прогнозам, остается стабильно высоким — за последние три года здесь нет статистически значимых изменений. Причем, что интересно: чем выше тревога, тем выше интерес к будущему. Это парадокс — тревога по поводу происходящего и ближайшего будущего подавляет ориентацию на планирование, но одновременно усиливает запрос на понятное и предсказуемое завтра. Это объясняет рост спроса на прогнозы, предсказания, экстрасенсов, а также на аналитические материалы о будущем, который мы сейчас наблюдаем.
Мне бы очень хотелось, чтобы, несмотря на все угрозы, которые мы переживаем, мы поддерживали друг в друге готовность ставить позитивные цели. Это позволяет менять сами механизмы совладания: образ будущего перестает быть одной лишь защитой самооценки или способом бегства от реальности, он превращается в инструмент для изменения настоящего.
Беседовал: Денис Бондарев