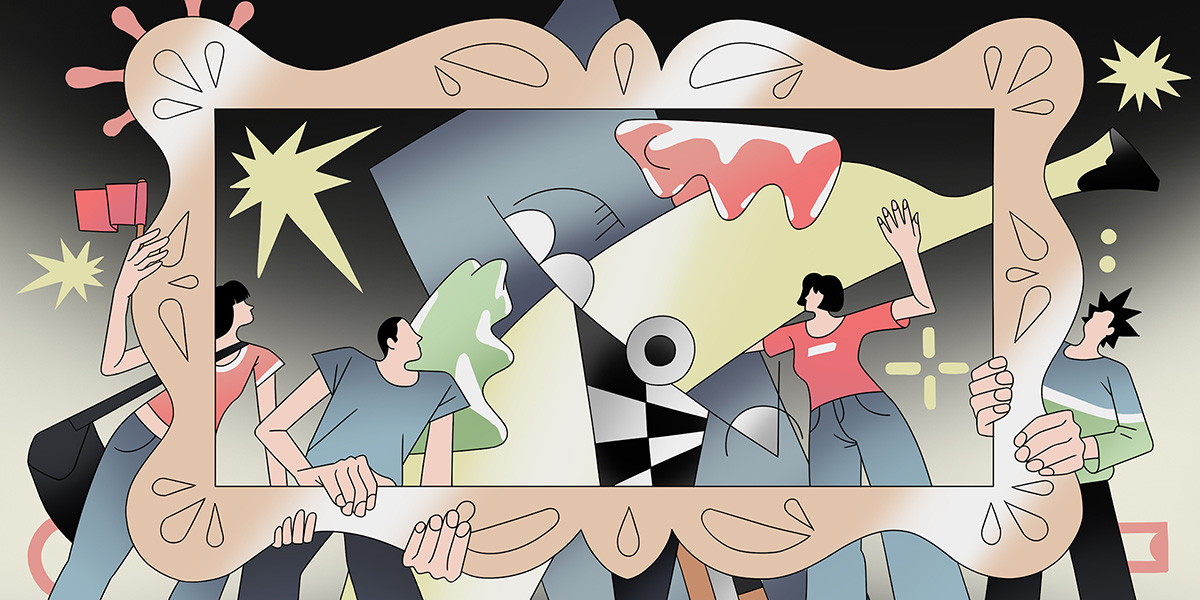«Для деятеля искусства главное — быть в резонансе со временем», — считает художник Дмитрий Гутов. В интервью для совместного проекта «Сноба» и ВТБ «Поколения» он объяснил, как события юности влияют на творчество и почему современным авторам сложнее найти собственный голос.

Сноб: Как вы считаете, есть ли отличия в том, как воспринимают и создают искусство представители разных поколений?
Дмитрий Гутов: Отличия есть, и существенные. По моим наблюдениям на формирование личности наиболее сильное влияние оказывает то, что происходит с нами между 12 и 14 годами, когда ребенок превращается во взрослого. Я не придерживаюсь традиционного деления на бумеров и миллениалов, потому что судьбоносные события не имеют заданной периодичности ни в 10, ни в 20 лет. Например, на меня самое сильное впечатление произвела кампания начала 1970-х по преследованию Солженицына. Тогда я впервые узнал о существовании диссидентов, и меня поразило, что есть люди с точкой зрения, отличной от официальной. Вторым важным событием для меня стала Бульдозерная выставка в Беляеве осенью 1974 года — я услышал о ее разгоне по «Голосу Америки» и страшно расстроился, что пропустил ее.
А для тех, кто был чуть старше, то есть родился в 1950-х, скорее всего, формирующими событиями стали сорбоннские протесты, «Пражская весна» и молодежные выступления 1968 года по всему миру.
Этот разрыв сохранился и в дальнейшем. Творчество поколения родившихся в конце 1950-х, например Константина Звездочетова, Юры Альберта, сформировалось в андеграундной атмосфере. Мы же, родившиеся в 1960-е: Виноградов, Дубосарский, Осмоловский, Кулик, — начали работать уже в перестройку, когда появились другие возможности. Тогда все механизмы выхода неформального искусства из подполья формировались с нуля, и участники процесса выстраивали их под себя. Витя Мизиано считал, что главное для искусства — периодика, и учредил «Художественный журнал». Иосиф Бакштейн мечтал о вузе и основал Институт современного искусства, Ольга Свиблова открыла МАММ, Леонид Бажанов — Центр современного искусства. И так далее.
А следующее поколение пришло, когда система уже сложилась. Художник, родившийся в начале 1970-х, в 1990-е уже учился у Бакштейна, читал журнал Мизиано, ходил на выставки Ольги Свибловой. Ребята пришли, когда вулкан остыл, и они могли лишь бродить по готовому ландшафту. Им оставалось только вписаться в созданную структуру — и это неизбежно влияло на их творчество. Вообще я бы сказал, что этому поколению не слишком повезло. Когда его представителям было лет по 13, страна погрузилась в глубокую тоску, в знаменитый период застоя. Это не способствует пробуждению художественной энергии.
У тех, кто родился в 1980-е, период взросления пришелся на слом эпохи, и у них совершенно иной взгляд на мир. Перед этим поколением открылись перспективы, которые нам и не снились, но не в сфере искусства, а в области компьютерных технологий, возможности свободно перемещаться по миру, изучать языки, смотреть любые фильмы, бои, футбольные матчи. Это сильно отвлекло их от творчества. В этом бесконечном потоке само искусство как феномен становится маленькой и не самой главной ценностью.
У поколения, рожденного в 1990-е годы, чье детство прошло в условиях, возможно, экстремальных, мировоззрение складывалось уже в 2000-е — в эпоху стабильности. Среди этих людей, безусловно, встречаются яркие индивидуальности, однако общая тенденция к адаптации в жестко структурированных системах, не поддающихся трансформации, создает малоблагоприятную среду для творческого самовыражения. Современные выставки в массе своей все больше напоминают декоративно-прикладные упражнения на тему современного искусства. Как метко заметил один мой приятель, это напоминает карго-культ модернизма.
Сноб: Такое впечатление, что до середины XX века произведения искусства воспринимались как сакральный объект. Уже к 2000-м просматривается скорее торжество идей, а галереи становятся «храмами концепций». А в последние годы произошла какая-то полная эстетизация, художественным произведением может стать все что угодно, от человека-собаки Олега Кулика до клетки для души Виталия Комара. Верное ли это представление и с чем связана такая трансформация?
Дмитрий Гутов: В целом я согласен с вашим определением, если его понимать более широко. Десакрализация искусства идет столетиями. Можем взять эпохи чуть более близкие нам. В СССР был невероятный культ классического наследия. Существовала целая система его популяризации: репродукции в «Огоньке» с незамысловатыми комментариями, «Иностранная литература» с иллюстрациями западных мастеров, выходили журналы «Искусство», «Творчество», «Юный художник», календари «В мире прекрасного». То есть до перестройки у широких масс было некоторое представление о высоком искусстве. Когда в 1974 году в Пушкинский музей привезли Джоконду, люди стояли в очереди по 15 часов, чтобы мельком взглянуть на нее.
При этом информация об авангарде в течение многих лет после 1936 года была, мягко говоря, труднодоступна. Сведения стали проникать только в 1960-е годы через критическую литературу, где с негативными отзывами публиковались черно-белые иллюстрации. Моя любимая книга «Кризис безобразия: от кубизма к поп-арту» вышла в 1968 году. Из нее мое поколение еще в детстве узнавало о творчестве Мондриана, Уорхола, Поллока, Нам Джун Пайка и так далее. Литературу было чрезвычайно сложно достать, зато эти редкие книги знали все интересующиеся люди, и благодаря им существовала достаточно жесткая структура необходимых знаний.
Сегодня такого рейтинга знаний нет. В Сети присутствуют терабайты информации по любому вопросу. Невозможно разобраться, кто важен, а кто нет, что заслуживает внимания, а что полная ерунда. Перелом конца 1990-х в связи с распространением интернета, как справедливо считают некоторые мыслители, нанес сокрушительный удар по экспертному знанию.
Последствия этого стали заметны довольно быстро и невооруженным глазом. Многие молодые люди на просьбу «Назовите какую-нибудь картину какого-нибудь художника» не могут вспомнить ни одного имени и ни одной работы. Парадоксальным образом отдельные явления внезапно обретают бешеную популярность внутри своей субкультуры. В 1990-е годы можно было на 15 минут стать знаменитым после публикации в журнале «Птюч». Хотя стоит отметить любопытную особенность: при общем снижении уровня понимания предмета и подготовки те редкие студенты, кто всерьез увлекается искусством, демонстрируют подлинную глубину знаний. Сегодня возможностей для самообразования стало в миллион раз больше, чем у предыдущих поколений. Вся проблема только в том, на чем концентрироваться.
Сноб: По опросу ВЦИОМа, самым популярным художником у россиян оказался Айвазовский. Как вы считаете, чем он так привлекает наших соотечественников?
Дмитрий Гутов: К сожалению, у нас существует гигантский разрыв между профессиональным и любительским пониманием искусства. Помню свой экзамен по русской живописи XIX века в Академии художеств: требовалось с ходу проанализировать творчество любого из нескольких десятков художников — будь то Репин, Врубель, Федотов или Соломаткин. При этом Айвазовского, кажется, не было ни в одном билете.
Сноб: Мне кажется, следствием того, что сегодня доступно большое количество произведений, эпатажность стала необходимым условием, чтобы тебя просто заметили. А выделиться гораздо проще, вызывая отрицательные эмоции, и поэтому современное искусство не гонится за красотой. Я неправа?
Дмитрий Гутов: Не совсем так. Шокировал современников поздний Тициан, когда начал вместо гладкой ренессансной живописи писать на грубых холстах и широкой кистью. Шокировал Рембрандт своим фактурным мазком. В середине XIX века публику потряс Курбе, потому что перестал писать библейские и мифологические сюжеты, а стал изображать реальную жизнь, каких-нибудь каменотесов и похороны в Орнане. Классический пример несоответствия прежним представлениям о прекрасном — импрессионисты, вот уж кто всех поразил. Но эти художники не стремились шокировать — они просто шли своим творческим путем. Намеренный эпатаж как метод появился позже, в годы Первой мировой войны, с рождением дадаизма: Марсель Дюшан, Курт Швиттерс. Для современного искусства нарочитая эпатажность — это архаика столетней давности, художественное клише. Нормальному художнику она не придет в голову, для него очевидно, что это шаблон начала XX века.
Современного зрителя, видевшего все, уже не удивишь нарочитым шоком. Сегодня, чтобы быть замеченным, важно не эпатировать, а предлагать более содержательные работы, интересные с точки зрения мысли.
Сноб: Не уменьшилась ли роль мастерства в современном искусстве? Грубо говоря, обязательно ли уметь рисовать, чтобы быть художником?
Дмитрий Гутов: Как я сказал, уже современники Тициана считали, что он разучился в конце жизни писать. Когда искусство перестало руководствоваться исключительно критериями академического рисунка, возникла ситуация, где мастерство требует совершенно иных навыков восприятия. Понять живопись Хруцкого, у которого каждый лепесточек и каждая росинка выписаны и сверкают, совсем не то же самое, что осознать художественный уровень работ Сезанна. Если виртуозность первого очевидна любому зрителю, то для понимания Сезанна необходим более изощренный навык. Начиная с 1910-х годов само понятие мастерства сместилось в область интеллектуальных концепций. Ясно, что любой человек может купить кусок серебристого скотча и приклеить им банан, как сделал Маурицио Каттелан. Скажем, каждый школьник в состоянии написать E = mc². Написать просто — выдумать сложно.
Сноб: Что в современных реалиях важнее всего развивать подростку, чтобы раскрыть в себе талант художника?
Дмитрий Гутов: Прежде всего нужно быть в резонансе со временем. То есть стараться понять, что вокруг происходит. Конечно, можно учиться писать пейзажи, облака, цветы, девушек. Это, кстати, очень помогает в восприятии традиционного искусства. Но если начинающий художник будет заниматься только этим, он останется в архаическом состоянии. История знает печальные примеры такой изоляции. Так было в России в XVII веке — шла деградация иконописи. Даже искусствоведу непросто вспомнить что-нибудь стоящее за целое столетие. А в это время на Западе работали Караваджо, Веласкес, Рембрандт и много кто еще. Сегодня есть возможность быть в постоянном контакте с мировым художественным процессом, даже если вас от него мутит. Еще я бы, конечно, рекомендовал всем изучать историю искусства. Хотя бы просто для удовольствия.