«Хрустальный дом» — прозаический сборник Юлии Лукшиной. Это беллетристика, где грубый реализм может превратиться в волшебную сказку, репортажная достоверность обернуться сном или воспоминанием. В интервью «Снобу» автор рассказалa, какие соблазны таит в себе проза, кому из писателей она завидует и почему не может сказать, когда будет готова её следующая книга.

Почему назвали книгу «Хрустальный дом»? Сразу вспоминаются «Кукольный дом» Ибсена, «Стеклянный дом» Джанет Уоллс и ещё с десяток книг с похожими названиями.
Вы правы: название вызывает массу ассоциаций. Но в данном случае я шла не от ассоциативного ряда, а от образа, с которого эта книга началась. Когда-то давно меня сильно впечатлила история «Кристал Пэлес», «Хрустального дворца», построенного в Лондоне на Всемирной выставке ещё в середине XIX века. Этот павильон был настолько революционным архитектурным решением, что его решили сохранить и после выставки. Он в итоге погиб из-за пожара, оставшись лишь в воспоминаниях и изображениях. Смежным, накладывающимся образом стала оранжерея. Я люблю всё, что связано с садоводством, много читаю об этом, и мне нравятся оранжереи — строения одновременно прочные и хрупкие, эфемерные и вечные. Поскольку центральной точкой в моей книге является именно оранжерея, я решила дать ей название «Хрустальный дом».
Вы известный сценарист, преподаватель на сценарных курсах, автор экранной адаптации «Человека из Подольска», сериалов «Оптимисты», «Любопытная Варвара». Почему вы решили «уйти в прозу»?
Проза — это давняя история. В моей книге есть повесть и рассказы. Рассказы почти все публиковались в литературных журналах. Из всех видов литературного труда именно проза наиболее свободная, она даёт возможность идти за импульсом, пробовать разные приёмы, экспериментировать. Формат в прозе — тоже вещь более свободная, чем формат в журналистике или в сценарном деле. Проза — большой соблазн. Это очень интересно.
Совершенно очаровательное место в «Хрустальном доме» — деревня Теряево, место обретения душевного покоя для героев повести. У этой деревни есть прототип?
Нет, это вымышленная территория, совокупный образ заброшенной русской усадьбы, в которой сочетаются запущенность, ветхость, тайна и романтизм. Это, вероятно, и моё «воображаемое убежище» — идеальное укрытие, место для дум и прогулок.
Писать тяжело?
Мне — тяжело. Писательство — это труд, требующий серьёзного погружения. Я пишу медленно, по сто раз перечитываю, переписываю и завидую авторам, которые легко выдают тексты, при этом сохраняя приемлемое качество. Для меня писательство — лабораторная практика, и тексты я создаю гомеопатическими дозами, с «улитковой» скоростью.
У вас, как принято говорить, сеттинги в текстах разнообразные, действие с лёгкостью перемещается из российской глубинки в США, Венесуэлу, ЮАР… Можно сказать, что это особенность вашей писательской манеры или так случайно получается?
Я работала в разных изданиях и когда-то имела возможность много путешествовать. Училась в разных местах, побывала в разных странах. И мне всегда больше всего нравилось видеть и понимать, насколько разнообразен мир, пусть я совсем на чуть-чуть заглянула в мир людей, живущих где-то очень далеко. Вот есть у меня кусочек реальности, а у кого-то он совсем иной. Мы, человеческие существа, закодированы на получение нового опыта, знаний, впечатлений. По-моему, это важно — уметь расшириться до возможности альтернативного опыта. Может быть, и не стоит делать его своим, как правило, это и невозможно, но хотя бы признать факт поразительного разнообразия контекстов, граней, ситуаций. А внутри них — всегда отношения, всегда переживания. Есть в этом всём, по-моему, величие. Мы маленькие, а мир огромен.
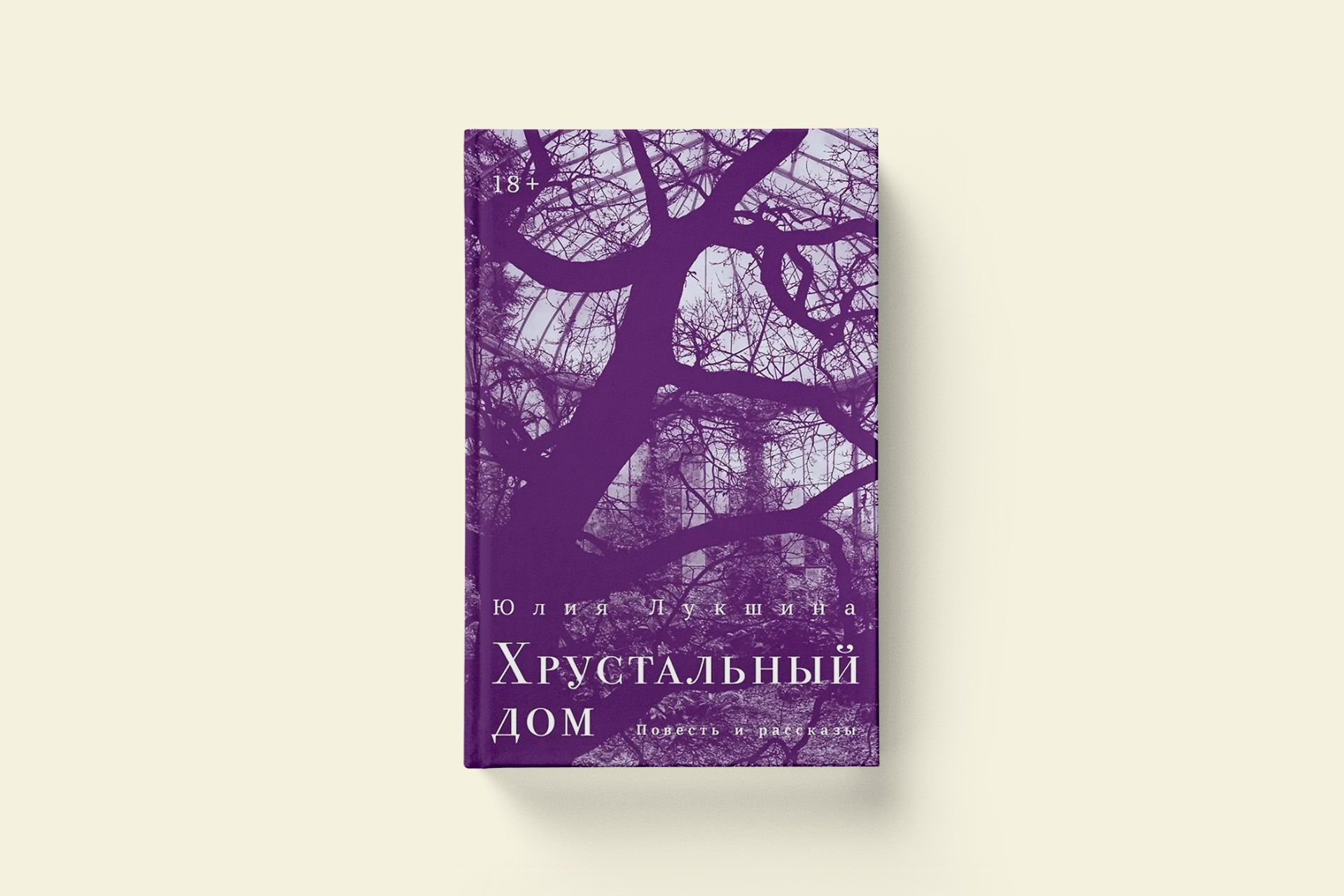
Недавно вышла нашумевшая статья критика Антона Осанова, который говорит о том, что новое поколение писателей вынуждено входить в литературу через жёсткую систему школ писательского мастерства, творческих мастерских, а свой рабочий график выпуска новых романов «подгонять» к премиальному циклу. Хочу спросить у вас — это действительно так?
Какой интересный вопрос, спасибо! Я думаю, здесь, если можно так сказать, имеется двухстороннее, встречное движение. Писателю, который написал и выпустил первую книгу, хочется продолжить, издать ещё одну и так далее. А издателю нужно решать бизнес-задачи. Всё понятно. Это индустрия. В кино ещё больше выражена привязка к производственным циклам, финансовым условиям. Всегда есть профессионалы, которые в индустриальные условия вписываются и себя в них находят, и те, кто не могут или не готовы. Ну и ладно. Не очень хорошо, по-моему, когда в этом всём исчезает творчество как предмет, и карьера или погоня за успехом становится самоцелью. Особенно в той прозе, которая претендует на штучность. Но это, вероятно, не вопросы к системе книгоиздания как таковой. Система — как погода. Она может меняться, но всегда какая-то система издания, продвижения имеется. Это вопросы каждого автора к себе. Что ему важно, чем он занимается на самом деле, когда пишет книги: деньги пытается заработать, великим стать, родителям понравиться, самоутвердиться или его, правда, литература чарует… Ответы тут индивидуальные очень.
А вас устраивает такая система?
Для меня литература — просто занятие. Я уже пропустила то время в жизни, когда можно было заботиться о том, чтобы делать из этого карьеру. Может, оно и к лучшему. Тем более, как я сказала, к сожалению, работаю медленно. Я человек суеверный, поэтому даже не буду говорить, пишу ли я новую книгу и когда сдам её в издательство.
В конце интервью мы обычно просим нашего собеседника назвать три произведения современной российской прозы, которые можно порекомендовать читателям «Сноба». Вы много читаете, следите за современной картиной в литературе?
Читать стараюсь, но пристально не слежу. Это ещё одна проигранная битва — то, что надо бы посмотреть, и то, что надо бы прочитать. В какой-то момент я вышла из этой гонки. Всех книг не купишь и не прочтёшь. Хотя для самоуспокоения у меня есть файл со списком: что я хочу прочитать и посмотреть. Как вы понимаете, короче он со временем не становится.Давайте я назову рассказы, которые я очень люблю. По-моему, в рассказе хорошо проявляется мастерство автора, его способность показать на короткой дистанции целый мир. Если позволите, я бы рекомендовала три рассказа Леонида Костюкова, их несложно найти в Сети — «Друг мой Шерлок», «О счастливой любви», «Верховски и сын». Надеюсь, их переиздадут, как, например, переиздали недавно (в издательстве «Альпина Проза») другого любимого мной автора Олега Постнова. Его самый запоминающийся роман называется «Страх», с него я бы и начинала знакомство с автором.
Беседовал Владислав Толстов
