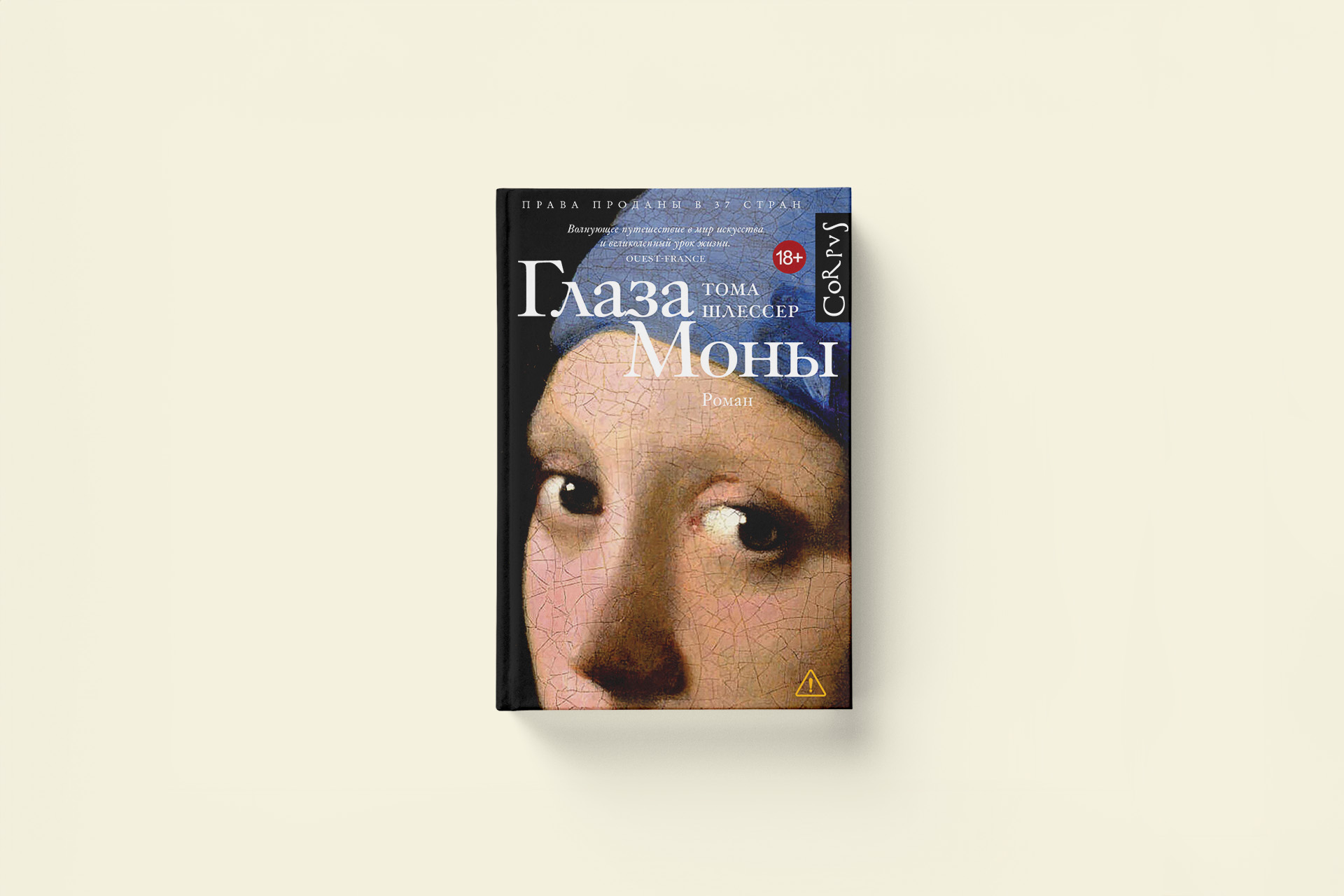Терапия искусством вместо бесед в кабинете психиатра — необычный способ лечения кратковременной слепоты. «Сноб» публикует фрагмент из бестселлера Томаса Шлессера, вышедшего в издательстве Corpus в переводе Натальи Мавлевич.
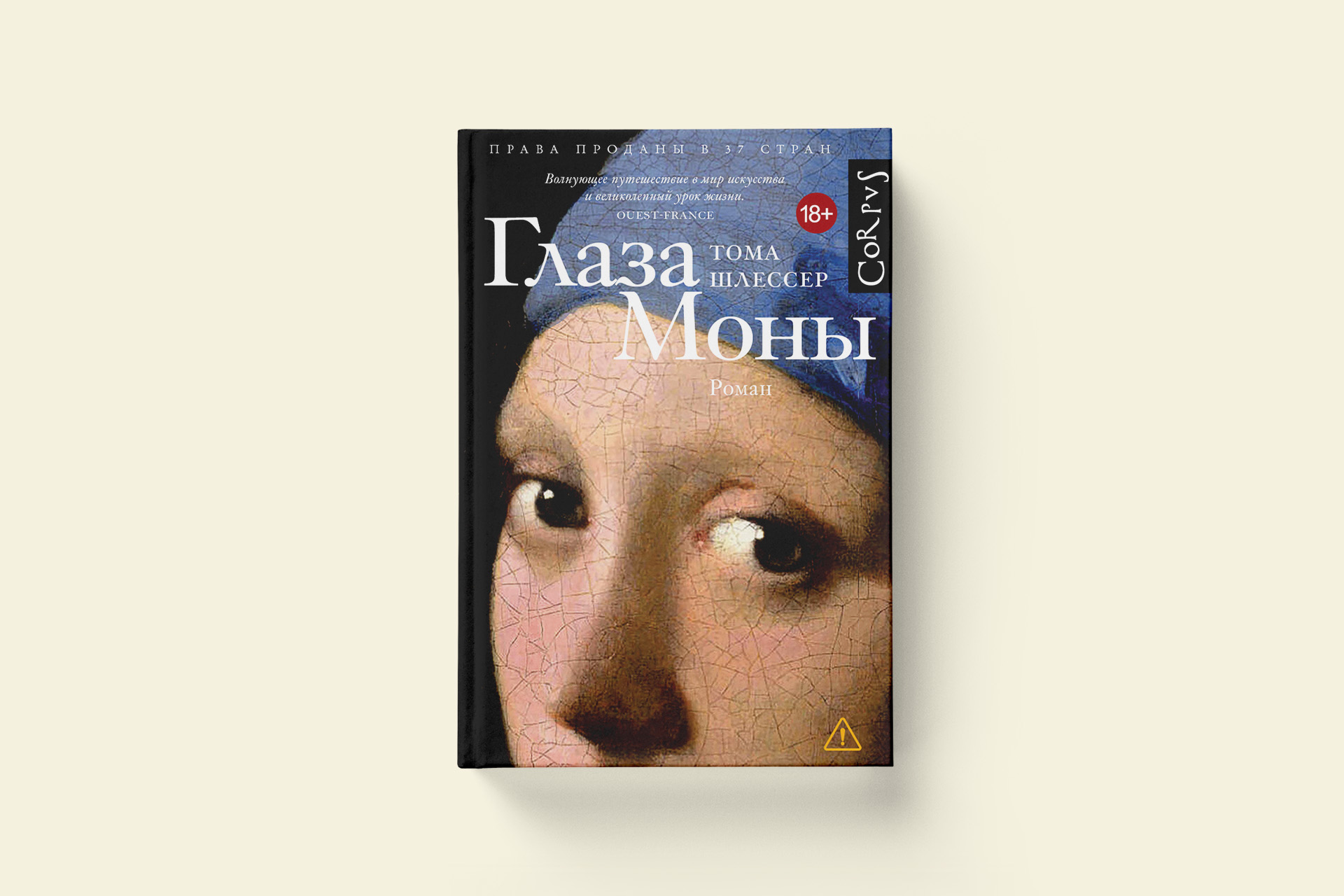
Мона с Анри прошли по лабиринту лестниц и оказались в довольно небольшом зале. Через него проходило много народу, но никто или почти никто не останавливал взгляд на картине, которая тут висела. Анри выпустил руку внучки и с бесконечной нежностью сказал:
— Ну вот, теперь, Мона, смотри. Столько, сколько понадобится, чтобы разглядеть хорошенько.
Мона робко застыла перед сильно поврежденной, во многих местах потрескавшейся картиной, вернее, фреской, на которой кое‑где краска совсем облупилась. Сразу видно — это что‑то очень-очень старое и ветхое. Анри тоже смотрел на фреску, но ещё больше — на внучку, он понимал: она растеряна и озадачена. Нахмурила брови, прыснула и тут же смутилась.
Он знал, конечно: десятилетняя девочка, каким бы живым и ясным умом и тонким чувством она ни обладала, не могла с первого взгляда прийти в восторг от шедевра Возрождения.
Знал, что, вопреки расхожему мнению, чтобы глубоко вникнуть в искусство, нужно время, требуется не поверхностное восхищение, а прилежный труд. Знал и то, что Мона включится в игру, раз он её попросил, и, несмотря на первое недоумение, будет, как обещала, старательно разглядывать фигуры, краски, материал.
Изображение легко разделить на части. Слева виднеется край фонтана. Перед ним, как на фризе, стоят в ряд четыре юных девы с длинными буклями, они держатся за руки, точно составляя человеческую гирлянду. Все четверо удивительно похожи друг на друга, но отличаются одна от другой цветом одежды: первая в зелёном и фиолетовом, вторая в белом, третья в розовом, четвёртая в желто-оранжевом. Пёстрая, устремленная вперёд процессия. Справа же выделяется на каком‑то невыразительном фоне ещё одна женщина, стоящая лицом к остальным, молодая, очень красивая, в пурпурном платье и с драгоценной подвеской на шее. Её фигура тоже устремлена вперёд, как будто она делает шаг навстречу кортежу. В протянутых руках она держит холстину, в которую дева в розовом что‑то кладет. Что же это? Не разберёшь. Краска стёрлась. А ещё в правом углу на первом плане изображён в профиль белокурый мальчик с лёгкой улыбкой на губах. От деталей фона ничего не осталось. Только c правого края, составляя пару фонтану слева, композицию завершает смутно различимая усеченная колонна.
Мона добросовестно соблюдала правила игры. Но больше шести минут не выдержала. Простоять шесть минут перед какой‑то облезлой картинкой — непривычное и трудное испытание. Так что она повернулась к деду и бесцеремонно (только ей и прощалась такая дерзость) сказала:
— Эта картинка — старьё старьём. Твоя физиономия по сравнению с ней — совсем свеженькая.
Анри посмотрел на трещины и шрамы, покрывавшие фреску, и, нагнувшись к внучке, сказал:
— Чем болтать глупости, лучше послушай меня. Картинка, говоришь? Старьё? Во-первых, Мона, это не картинка, а фреска. Ты знаешь, что это такое?
— Вроде да… но я забыла!
— Фреска — это живопись красками по стене, и обычно она очень хрупкая, потому что стена со временем разрушается, а вместе с ней и фреска.
— А почему художник рисовал на этой стене? Потому что это Лувр?
— Ничего подобного. Конечно, какому‑нибудь художнику вполне могло бы вздуматься написать фреску в Лувре — как‑никак это самый большой музей в мире, и понятно, как соблазнительно оставить свой автограф живьем, так сказать, прямо на его коже. Только, видишь ли, Мона, Лувр не всегда был музеем. А стал им всего‑то лет двести назад. Раньше это был дворец, где жил король со своим двором. А фреска эта была написана в 1485 году. И художник делал её для стен некой виллы во Флоренции, а вовсе не Лувра.
— Флоренция?.. — Мона машинально покрутила ракушку на шее. — Похоже на имя твоей бывшей невесты, если она у тебя была ещё до бабушки, я угадала?
— Нет, хотя такое могло бы быть. Но ты послушай. Флоренция — это город в Италии. А точнее, в Тоскане. Это колыбель Возрождения — так называется эта эпоха. В XV веке — по‑итальянски “кватроченто” — Флоренция переживала небывалый подъём. В городе насчитывалось около пяти тысяч жителей, и он процветал благодаря развитию торговли и банковского дела. И вот монастыри, политические деятели и просто горожане из высших слоев общества пожелали вложить средства и упрочить свой престиж, поощряя творчество своих современников. Они стали, как говорится, меценатами. Понятно, что художники, скульпторы, архитекторы воспользовались этой возможностью и создали на средства меценатов множество прекраснейших картин, статуй и зданий.
— Наверняка они все были золотые…
— Не совсем. Действительно, в Средние века поверхность картин часто покрывали тонкими пластинами золота. Это делало картину более ценной и к тому же символизировало божественный свет. Но в эпоху Возрождения живопись постепенно отказывается от помпезной позолоты и старается изобразить мир таким, каким мы его видим: пейзажи, человеческие лица, животные во всем их разнообразии, люди, предметы, небо и море в движении.
— Значит, художники полюбили природу?
— Именно так: полюбили природу. Но, говоря о природе, имеют в виду не только то, что растёт на земле.
— А что же ещё?
— Под природой понимают нечто более абстрактное — природу человека. А человеческая природа — это вся наша внутренняя сущность, с её светлыми и тёмными сторонами, это наши достоинства и пороки, наши страхи и надежды. А художник старается улучшить эту природу.
— Как это?
— Когда ты возделываешь сад, это полезно для природы.
Ты помогаешь ей расцвести в полную силу. А эта фреска призвана улучшить человеческую природу, она говорит нам нечто очень простое, но очень важное, что тебе, Мона, надо запомнить на всю жизнь.
Но Мона, желая позлить деда, закрыла глаза и заткнула уши, как будто не хочет ни видеть, ни слышать, что там он собирается ей сказать. Но через минуту тихонько приоткрыла веки, чтобы посмотреть на его реакцию. Анри преспокойно улыбался. Тогда она перестала валять дурака и приготовилась внимательно слушать. Потому что чувствовала: после долгого молчания, созерцания и разговора, после экскурсии внутрь облупленной фрески, которая была у неё перед глазами, дедушка собирается открыть ей какой‑то секрет, такой, какие навсегда остаются в сердце.
Анри указал ей на тот стершийся участок фрески, где, по идее, должен бы находиться предмет, который получала стоящая справа женщина. Мона послушно посмотрела туда.
— Четыре фигуры слева — это Венера и три Грации. Это щедрые божества, и они что‑то — мы не знаем что, потому что краска стерлась, — дарят юной девушке. Три Грации, Мона, — это аллегории, в жизни их не бывает, и ты никогда их не встретишь, но они представляют что‑то очень значительное. Вот эти, как считается, изображают три этапа становления человека, необходимых для того, чтобы он научился общаться с другими людьми и сострадать им. Фреска показывает, насколько важны все эти этапы, и старается, чтобы каждый из нас их усвоил.
— И что это за этапы?
— Первый — умение дарить, третий — умение возвращать, а между ними есть ещё один, без которого ничего не будет, на нём всё держится, вся человеческая природа.
— Какой же это?
— Смотри: что делает девушка, стоящая справа?
— Да ты уже сказал: ей повезло, она получает что‑то в подарок.
— Правильно. Получает подарок. Вот это и есть самое главное: умение принимать. Фреска говорит нам, что надо научиться принимать, что человеку, чтобы стать способным на что‑то великое и прекрасное, надо быть готовым принимать: принимать доброе отношение другого, его желание сделать тебе что‑то хорошее, принимать то, чего у тебя ещё нет и чем ты ещё не стал. Придёт время, и ты сам будешь давать людям что‑то новое, но сначала надо быть способным принять. Понимаешь, Мона?
— Все это довольно сложно, но, кажется, понимаю.
— Уверен, что понимаешь! И посмотри: какие красивые эти девы, как тонко и изящно они нарисованы, как плавно все линии сливаются в одну, неразрывную; это подчеркивает важность именно такой последовательности, такого сцепления, соединяющего людей и улучшающего их природу. Дарить — принимать — отдавать, дарить — принимать — отдавать.
Мона не знала, что сказать. Боялась разочаровать дедушку. Она уже показала, что умеет шутить, но теперь молчала, чтобы не ляпнуть что‑нибудь глупое, она же понимала: дедушка повел её в этот огромный музей не просто так, а чтобы она стала немножко взрослее. Cейчас она чувствовала какую‑то тревогу, перед ней открывался новый, невероятно привлекательный, захватывающий мир, её тянуло шагнуть во взрослую жизнь, тем более что звал её туда Анри, который так много значил для неё. Но в глубине души шевелилось пугающее предчувствие, оно подсказывало: то, что ты отдашь, назад никогда не вёрнется. И у неё заранее сжималось сердце от тоски по навсегда утраченному детству.
— Пошли, Диди? Вперёд, веселый народ?
— Пошли, Мона, пошли! Вперёд!
Анри снова взял внучку за руку, и они молча, не спеша вышли из Лувра. Сгущались сумерки. Анри, конечно, не знал, какое смятение перевернуло душу девочки. Но он никогда не соглашался с тем, что надо кого‑то оберегать от неприятных чувств, стараясь доставлять близким людям только радости и удовольствия. Нет, он был уверен: жизнь чего‑то стоит только тогда, когда испытаешь на себе её тяготы; преодолённые трудности дают драгоценный, плодотворный опыт, из которого вырастает то полезное и прекрасное, что делает жизнь полноценной.
Кроме того, счастливое свойство детства в том, что огорчения быстро проходят, вот и Мона на обратном пути уже шла вприпрыжку и что‑то напевала. Анри не вмешивался — его всегда трогали такие минуты. Но вдруг, у самого дома Мона застыла, вспомнив, что они с дедом сговорились скрывать от родителей, куда они на самом деле ходят вместо кабинета психиатра. Она широко раскрыла свои светлые глаза и с проказливой гримаской посмотрела на Анри — как они с ним ловко придумали!
— Диди, а что я скажу маме с папой, если они спросят, как зовут психиатра, у которого мы были?
— Скажи, что его зовут доктор Боттичелли.