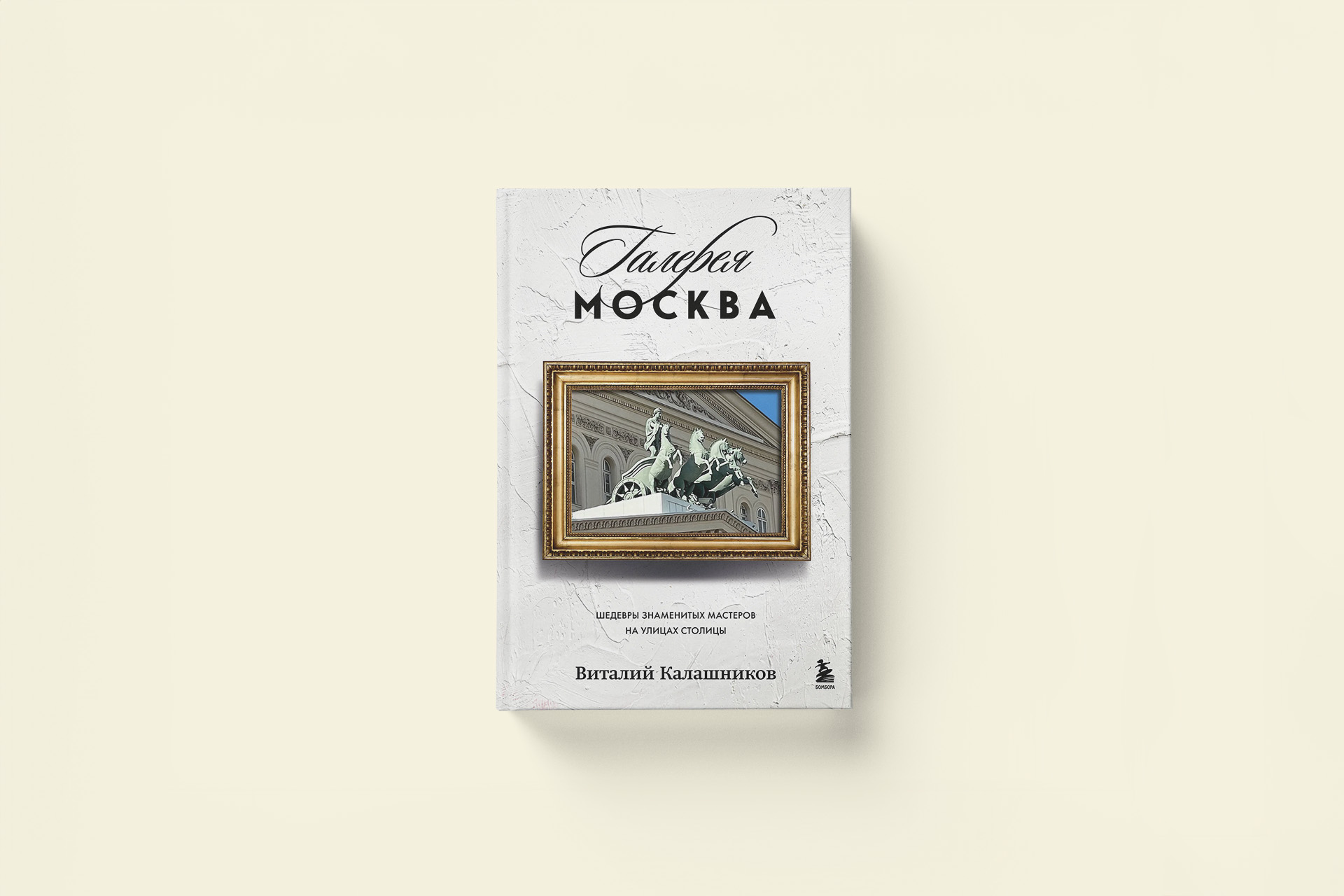В издательстве «Бомбора» вышла книга москвоведа Виталия Калашникова «Галерея Москва». «Сноб» публикует отрывок.
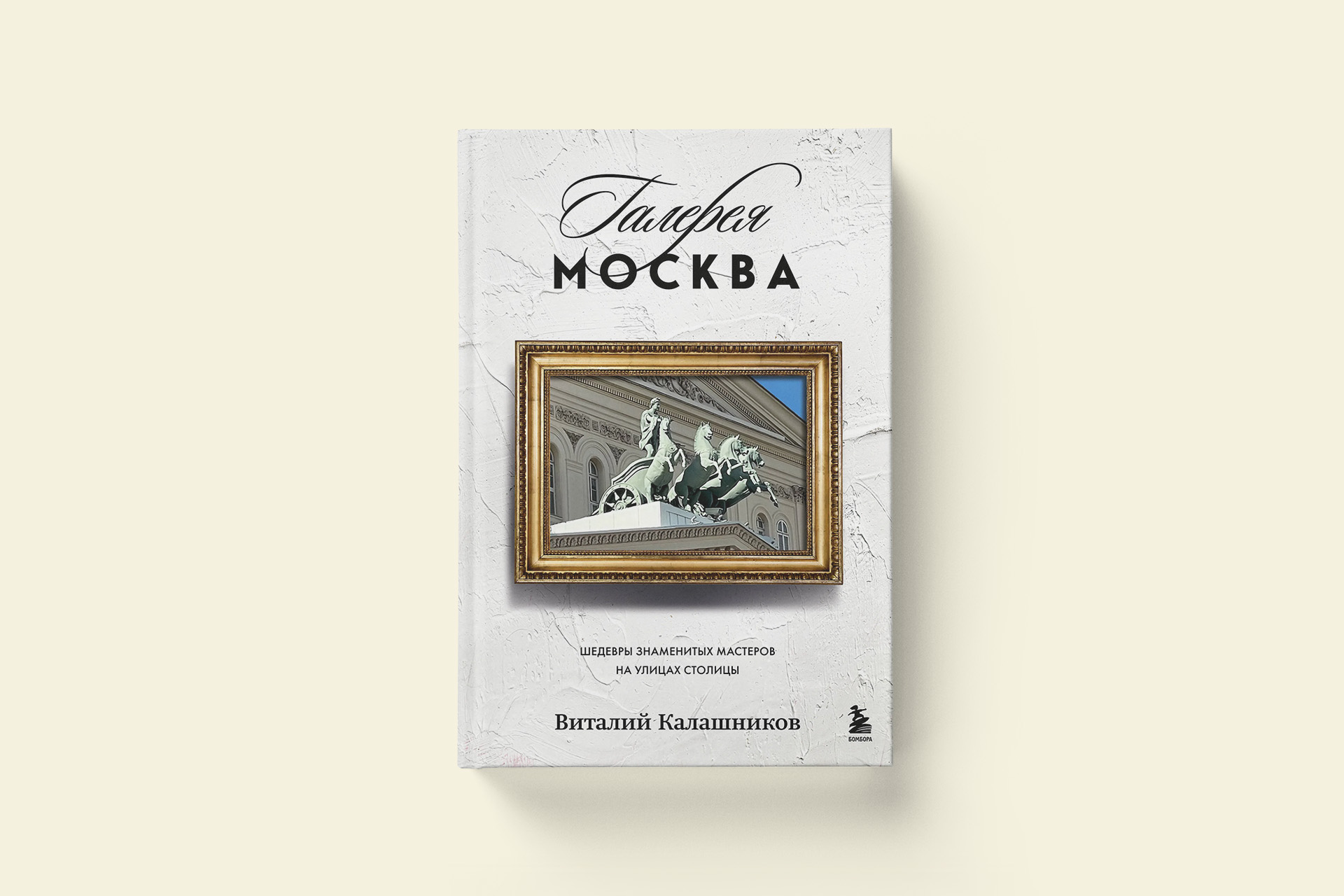
Дома, завернутые в кулисы
В начале двадцатого столетия события в России были похожи на спектакль с закрученным сюжетом. Весь мир наблюдал за революциями, экономическими потрясениями, интригами при императорском дворе, техническими, культурными, промышленными достижениями и провалами. Это происходило так ярко и самобытно, что за границей появилась мода на все русское. В лидерах трендов были театр и балет. Публика приходила в восторг от красавиц-танцовщиц, передовых методов режиссуры и фантастических декораций. Художники-оформители тогда становятся настоящими звездами. За самых талантливых бьются не только лучшие театры страны, но и архитекторы, мечтающие превратить свои здания в фантастические декорации. Одним из востребованных и на сцене, и в монументальном искусстве оказался Александр Головин.
Архитектура для Головина была темой близкой. Он три года проучился на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В итоге осознал — ему интереснее не строить, а украшать, и перевелся в живописный класс, где его учителями были Маковский с Поленовым. В 1900-м Александр Головин создает Кустарный отдел Русского павильона на всемирной выставке в Париже.
На рубеже веков Головин входит в знаменитый мамонтовский кружок, бывает в Абрамцеве, придумывает декорации к спектаклям для многих театров. Тогда-то он и получает заказ на оформление фасадов гостиницы «Метрополь» . Да, конечно, панно Врубеля там центральное, самое крупное и легендарное. Но, помимо «Принцессы Грезы», стены здания украшают и другие сюжеты, застывшие в майолике. «Купание наяд», «Клеопатра», «Жажда», «Поклонение божеству», «Поклонение природе», «Орфей играет». Вот их-то и придумал Александр Головин . Все та же абрамцевская керамика, все те же мотивы модерна. Но чуть более плавные и спокойные, нежели у Врубеля. Только представьте — работы двух заметных живописцев своего времени рядом друг с другом, на одной стене. Чтобы разместить рядом Врубеля и Головина, картинной галерее нужно приложить массу усилий. А тут они соседствуют на глазах у всех уже больше сотни лет.
Особое внимание стоит уделить панно, которое находится со стороны Театрального проезда. Здесь пара грациозных лебедей наблюдает за тем, как под ночным небом плещутся русалки-наяды (дочери Зевса и нимфы водных источников). Есть версия, что в основу изображения лег один из эскизов, которые в 1900 году Головин создавал для оперы «Русалка» в Большом театре.
Как бы то ни было, спустя 10 лет аналогичное изображение появилось на одном из зданий в Большом Гнездниковском переулке. Необычно высокий для города доходный дом построил Эрнст Нирнзее. Вероятно, он, восхищенный панно на «Метрополе», обратился к художнику с просьбой создать аналогичное, но в другой цветовой гамме. Действительно, если на фасаде гостиницы нимфы купаются под ночным небом, то на доме Нирнзее атмосфера яркого утра.
Проблема в том, что из-за узости переулка, высоты здания и плотной застройки вокруг, панно в Большом Гнездниковском толком не рассмотреть и не сфотографировать. Существует даже городская легенда: якобы сделано это было специально, чтобы майоликовым шедевром мог любоваться сам архитектор из окна своей квартиры в Трёхпрудном переулке.
Одна из самых географически центральных работ Александра Головина находилась на угловом аттике гостиницы «Националь» (тогда ее называли «Национальная»). Ее архитектор Иванов в 1900 году начал строить по заказу Варваринского акционерного общества. Конкуренция с возводимым в то же самое время и по той же линии улицы «Метрополем» была очевидна. Вероятно, от этого и случился следующий казус: Александра Головина, успешно придумавшего панно для одной гостиницы, привлекли к созданию декоративных украшений на фасаде другой. Он совместно с еще одним «абрамцовцем», Сергеем Чехониным, создает сюжет «Аполлон и музы» (по некоторым данным, придуманный всё же художником Павлом Кузнецовым, но более опытные мастера его существенно переработали). Как бы то ни было, изображение, ставшее визитной карточкой новой гостиницы, сегодня можно увидеть лишь на старых фото. Дело в том, что в советское время, чуждый новой идеологии, буржуазный сюжет, расположенный напротив Кремля, решили заменить на более подходящий актуальным приоритетам. Так появился тракторист, управляющий техникой, линии электропередачи, гудящие локомотивы, дымящие пароходы, а также вилки́ капусты, клубни корнеплодов и хрестоматийные снопы пшеницы.
Если уж затронули имя Сергея Чехонина, то этот живописец и декоратор вместе с Головиным принимал участие в оформлении фасада отеля «Метрополь», а также занимался там росписями интерьеров общественных пространств и номеров. В одном из них до сих пор сохранилась потолочная живопись с синим небом и экзотическими птицами.
Перемещаемся на 4-ю Тверскую-Ямскую. Там с 1911 года возвышается пятиэтажный доходный дом Калиновской. Компактный земельный участок диктовал архитектору, а им был Нирнзее, придумать вытянутую вверх композицию. Однако в свое время здание выделялось не только количеством этажей, но и украшением фасада. И снова абрамцевский завод, и вновь Александр Головин. Накануне, в 1910-м, на весь мир прогремел балет Стравинского «Жар-птица». Одним из художников постановки был Головин. О его костюмах и декорациях тогда не говорил только ленивый. А фантастическое существо из русского эпоса моментально стало сверхпопулярным и превратилось едва ли не в символ Серебряного века с его яркими творческими экспериментами, неуловимостью, заманчивостью и ориентацией на национальные традиции.
Как раз жар-птицу (даже две пары) по эскизам Головина архитектор Нирнзее и изображает на фасаде. Они украшают собой декоративные наличники, создающие атмосферу русской сказки.
Особенно радует, что несколько лет назад дом Калиновской был признан объектом культурного наследия регионального значения. Это дает шанс жар-птицам Головина на охрану и долгую жизнь.